Булат Окуджава был не только выдающимся поэтом и бардом, но и ветераном Второй мировой. Или, как иногда принято говорить — Великой Отечественной. Его песни о войне стали классикой — многие думают, что это народные песни.
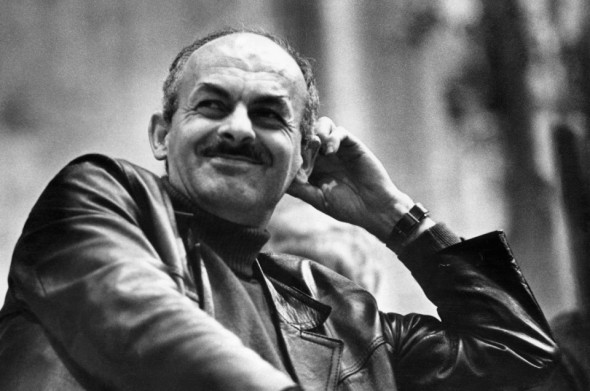
Возьмемся за руки, друзья
…Может, новое поколение, племя младое, незнакомое, не видело «Белорусский вокзал», где звучит песня на его стихи, и не знает того, кто сочинил «Госпожу удачу» для фильма, освещенного белым пустынным солнцем? Может, молодые люди не видели и того памятного концерта в Политехническом из хуциевской «Заставы Ильича»?
Поколения меняются быстро, всё понятно, но мне искренне жаль тех, для кого Окуджава – «скучное» прошлое.
Может, потому, что он никогда не был навязчив, его голос не несся из каждого утюга, а лирика его была спокойна и не громогласна? И если в ней чувствуется потаенный трагизм («вы слышите, грохочут сапоги»), то сделано, написано и спето это именно негромко, как-то ненастойчиво, вполголоса… Без литавр казенного патриотизма и громокипящего пафоса.
Потому и - несмотря на дистанцию в несколько поколений - его «Полночный троллейбус» всё так же мчится по Москве. Образ, видимо, вечный, неувядаемый: как много, представьте себе, доброты, в молчанье, в молчанье.
Как и это, впечатавшееся в наше коллективное подсознание – возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Так и есть – пропадаем, закончилась эпоха солидарности, воспетая Окуджавой: как бы там ни было, но взаимопомощь и солидарность существовала, даром что в стране насилия.
Грузин со Старого Арбата
…Чтобы вчувствоваться в песни Окуджавы, нужно обладать неким особым состоянием души, это именно что «душа», а не звуковоспроизводящая аппаратура, какой бы совершенной она ни была.
Скажем, опять-таки, впоследствии знаменитый, вечный, бессмертный «Полночный троллейбус». Тогда Окуджава был очень молодым и только что вернулся из Калуги, где отработал учителем три года (он, кстати, не очень любил вспоминать об этом). Зато часто вспоминал, как году в 56-м прочитал своим друзьям - прямо на улице, около станции Кропоткинская, как-то вдруг, вечерком, - стихи о случайном троллейбусе, впоследствии знаменитые. Друзьям стихи понравились, и они хором закричали: «Булат, ты должен продолжать!». Он послушался, и уже вскоре, к радости его поклонников, эти тихие песни, полные тонкого лиризма, люди начали петь уже сами. Перебирая гитарные струны и порой даже не догадываясь, кто их автор и почему он, собственно, извините, грузин? И почему этот грузин поселился на Старом Арбате? Где теперь, как вы знаете, стоит памятник Булату Шалвовичу, московскому грузину и певцу Старого Арбата.
Этот памятник (вот почему он там и установлен) - единственному и неповторимому певцу единственной в своем роде и неповторимой улице, мифологической улице…
В свое время Булат сочинил балладу про «Леньку Короля», потому что, хоть и грузин, был он «реальным» московским пацаном, получившим, как и полагается, в трагическом 1941-м розовую военкоматскую повестку…
Бумажный солдат
«Солдатиком на кривых ножках в обмотках», не достигнув восемнадцати, он ушел на эту страшную, поистине мировую, масштабную войну, - в апреле 1942-го:
«Ну а потом был фронт, и ранение, и госпиталь, и все, что полагается. А после пришла победа. Но о фронте я рассказывать не буду, ибо о нем так много рассказано в книгах и в кино, что я начинаю путать: что - мое, а что - чужое; что было со мной, а что - с другими. Что же касается победы, то, хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа досталась бы труднее».
Кстати, интересно: Булатом он стал не сразу – родители назвали его Дорианом (!!!) в честь уайльдовского героя Дориана Грея. И только когда ему исполнился месяц, переименовали в Булата. Отца по ложному доносу арестовали и расстреляли в 1937-м. За матерью пришли в 1938-м, отправили в лагерь под Караганду. Маленького Булата забрала родная тетя – в Тбилиси. Вот оттуда он и ушел на фронт, «солдатик на кривых ножках в обмотках», а не со Старого Арбата, как кажется многим. Ну и пусть кажется, пусть Окуджава в нашем коллективном воображении навсегда будет связан с Арбатом:
Ах, Арбат, мой Арбат, Ты мое дыхание.
Оттепель
И всё это, этот его собственный Арбат, поется так, как он любил петь своим близким друзьям в маленьком кабинетике редакции «Литературки», в году этак 1959-м. Обычно, сняв гитару со шкафа, он пел несколько песен подряд - тех, что только что сочинил. И обкатывал их уже у кого-нибудь в гостях, по нескольку раз…
В общем, наступила Оттепель.
Именно так, с прописной буквы. Все талантливые, молодые, полные сил и планов: после ХХ съезда казалось, что империя зла наконец рухнула.
Сто страниц первого прозаического произведения «Будь здоров, школяр», с подачи писателя Бориса Балтера, прочитал обитавший тогда в Тарусе сам Константин Георгиевич Паустовский. Фрагменты повести без каких-либо изменений были опубликованы в «Тарусских страницах», известных тем, что в высших партийных кругах вызывали приступы пусть не ярости, но аллергии уж точно.
Тем временем Окуджава постепенно становился чуть ли не для каждого из нас надежды маленьким оркестриком - под управлением любви. Он сам, с его гитарой, всё больше походил на неупраздняемый театр личного значения для каждого, кто в этот оркестрик вслушивался. Один, с гитарой, «без ансамбля», но делал он это так, что Юрий Визбор, в «Формуле времени», отозвался о нем с выдающейся точностью:
«Две правды были в них — правда жизни и правда художественного образа. Оттого эти песни и были, и стали современными, и никак не собираются стареть. И происходит так не только потому, что в них изображена быстро меняющаяся технология временного мышления или архитектура шатких сиюминутных ценностей. Песни Булата Шалвовича — это поистине формула времени, начиная от прямого ее выражения — “как просто быть солдатом” — и кончая сложнейшими философско-поэтическими притчеобразными построениями, о которых можно писать целые трактаты».
Он переделать мир хотел
«Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый» - вопрос, признавать ли автора этих строк выдающимся поэтом и бардом, больше не актуален, споры закончились уже в шестидесятых. Хотя статьи в партийной печати тех времен квалифицировали его как «вредное явление» в эпоху патриотических песен и большой эстрадной шумихи - при участии признанных певцов и певиц.
…Да и Союзом писателей руководили тогда не самые умные люди, зато с приличной зарплатой и пропуском в спецраспределитель. Собственно, этим и ограничивались их «достоинства»; трусость, как бы чего не вышло, и замшелый официоз прилагались. Они и припечатали Окуджаву - мол, «большинство этих песен не выражали настроений, дум, чаяний нашей героической молодёжи».
Вот тут, товарищи, у вас ошибочка вышла: именно эти песни, авторства Окуджавы, как раз и выражали «думы и чаяния». И героической, или не очень, молодёжи как раз они и были нужны. Именно эта, и никакая другая, поэзия, под тихий перебор гитарных струн:
Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный. Последний троллейбус, по улицам мчи, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, крушенье. Последний троллейбус, мне дверь отвори! Я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил из беды, я к ним прикасался плечами... Как много, представьте себе, доброты в молчанье, молчанье. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Как раз здесь, в таком вот межвременном сочетании образов и сосредоточен смысл авторской песни - как состояния души, любви к жизни, настоящей, а не пошлой розовой романтики. Или… Даже не знаю, как сказать - чего-то еще - такого, что невыразимо, но в чем таится обаяние, нежность, мудрость. Чего-то, о чем говорил и сам Булат Шалвович:
«Авторская песня - это серьезные раздумья о жизни человека, может быть, трагические, может быть, острые. Ведь авторская песня родилась как раз из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души. Когда-то, обращаясь к Москве, я писал: „Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом”. О чем эта грусть? О жестокости нашей жизни. О недоверии к личности. Неуважении к личности. О крушении идеалов. О разочарованиях. Об утратах. Об эфемерности надежд. Обо всем этом надо говорить».
Да, так и есть: «Бумажный солдат» был. Он геройски сгорел, но ...не был бумажным. Он был тем самым юным солдатом, поэтом и писателем, «на кривых ножках в обмотках», тащившем на себе по дорогам войны вещмешок и тяжеленный автомат.
Его нещадно костерили, скажем, вот за это - «Ах, война, что ж ты сделала, подлая», поскольку «великая» по определению не может быть «подлой». Но наш Бумажный солдат всегда стоял на своем - и в стихах, и в прозе.
И поручиком в отставке сам себя воображал
…Мысленно Окуджава часто переносился в начало XIX века, для него – лучшее, самое прекрасное время. И самый близкий ему поэт – Пушкин: оттого, видимо, что «наше всё» владел искусством самоиронии. Как, собственно, и Окуджава: это ценнейшее качество было присуще, помимо всех прочих достоинств, человеку, который знал весь Арбат вдоль и поперек, который был его «религией».
Теперь, правда, за памятником певцу Арбата расположено кафе «Му-му» - странное, что ни говори, соседство, неуместное, не интеллигентное какое-то. Сам Окуджава в ответ на расспросы, причисляет ли он себя к интеллигенции, мог сказать:
«Я никогда не утверждал, что я интеллигент. Но мне всегда хотелось быть интеллигентом. Хотя у меня масса недостатков, пороков, но освобождение от них, наверно, и есть приближение к интеллигентности».
Я обнимаю всех живых
…Сядьте как-нибудь в синий троллейбус, в полночный, случайный, и воображаемая встреча с Окуджавой, наверное, превратится в возможную. В окне – вся та же Москва, все те же пассажиры, матросы твои, что приходят на помощь.
И – перенесемся силой воображения на юг - жаркое лето в Тбилиси, год 1941-й, повестка, тетя в слезах: «Тебе же еще только семнадцать!»
И вся правда - в «Будь здоров, школяр!», и всё, что было на его концертах…
Мы постоянно напевали и порой хором пели его песни, без конца слушали их на медленно тянувшейся магнитофонной пленке… Этому не так легко сказать «прощай». Потому что Окуджава нескончаем: время не властно над ним, да и мы сами не хотим, чтобы эта ностальгия, связанная с наши взрослением, открытием мира, с нашими прозрениями, кончалась…
Так и воображаешь его в компании, с гитарой, негромко напевающего. Хочется, конечно, оказаться в этой компании – но, представьте, не только для того чтобы послушать его песни: лирик по преимуществу, он был человеком чрезвычайно умным и хорошо понимал, в частности, в какой опасности Россия. Понимал уже тогда. Недаром в 1997-м, незадолго до своей кончины от остановки сердца, в военном госпитале под Парижем, он словно обратился к нам, к потомкам:
Я обнимаю всех живых и плачу над умершими, но вижу замершими их, глаза их чуть померкшими. Их души вечные летят над злом и над соблазнами. Я верю, что они следят, как плачем мы и празднуем.
Автор текста: Владимир Вестер
Источник: story.ru
Реклама: «СтАлетов» - дом для престарелых людей в Уфе








